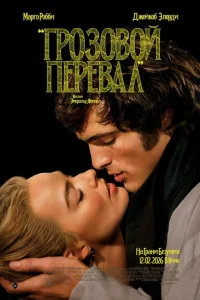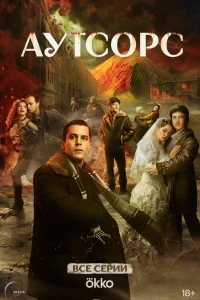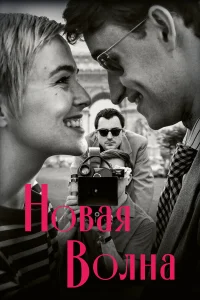Он всегда чувствовал себя не в своей эпохе. Его душа, казалось, была вырезана из осколков другого времени — времени джаза, потерянного поколения и парижских кафе. Когда самолет приземлился, и он вышел, держа за руку Лору, это было больше, чем просто прибытие. Это было возвращение.
Они сняли маленькую комнату с видом на крыши Монмартра. Однажды утром, бродя по Латинскому кварталу, он зашел в неприметную книжную лавку. Запах старой бумаги и кожи был густым, как туман. Он протянул руку к потрепанному тому, и мир вокруг него дрогнул, а затем поплыл. Звуки современного Парижа — гул мопедов, голоса туристов — растворились, сменившись клацаньем пишущих машинок из открытого окна и мелодией граммофона.
Он очнулся за столиком в «Клозри де Лила». Воздух был синим от сигаретного дыма. За соседним столиком коренастый мужчина с бородой что-то яростно строчил в блокноте. Их взгляды встретились.
— Вы новенький, — сказал мужчина голосом, похожим на скрип гравия. — Потерялись?
Это был Хемингуэй. Разговор тек легко, о войне, о рыбалке, о том, как писать одну правдивую фразу. Позже, в салоне на улице Флёрюс, Гертруда Стайн, восседая как монумент, обсуждала с Пикассо кубизм, в то время как Фицджеральды — он, сияющий и хрупкий, она, Зельда, с глазами, полными беспокойного огня — спорили о чем-то с жаром и смехом.
С Лорой все было иначе. Она восхищалась нарядами, смеялась над остротами, но в ее глазах он видел легкую скуку, тень нетерпения. Она тосковала по удобствам их мира, по быстрым сообщениям и знакомому комфорту. А он? Он вдохнул этот воздух, пропитанный творчеством и отчаянием, и понял: он дома. Каждая клеточка его существа пела в унисон с этим хаосом.
Мысль созревала, тяжелая и сладкая, как спелый плод. Он наблюдал, как Зельда кружится в танце, а Скотт смотрит на нее с обожанием и мукой. Он слушал, как Стайн говорит о «потерянном поколении». Он не был потерян. Он был найден.
Однажды ночью, стоя на мосту Александра III, он взял руку Лоры. Фонари отражались в Сене золотыми змейками.
— Я не могу вернуться, — тихо сказал он. В его голосе не было сомнения, только спокойная, непреложная ясность.
Она смотрела на него, и постепенно понимание затуманило ее взгляд. Это была не прихоть, не каприз. Это была судьба.
Он остался смотреть, как ее силуэт растворяется в тумане, направляясь к эпохе, которая никогда не была ему домом. А он повернулся и зашагал обратно в шум и свет 20-х, навстречу своей неидеальной, долгожданной жизни. На этот раз — навсегда.